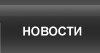Портрет мастера на фоне русской печки
Рассказывает шеф ресторана «Савой»
 В московский ресторан «Савой» автора этих строк привели два обстоятельства: известность в кулинарных кругах шеф-повара «Савоя» Вячеслава Брылова и тяга к экзотике. Дошло до нас, что на кухне ресторана сложена русская печь и что в ней мастер готовит блюда русской кухни.
В московский ресторан «Савой» автора этих строк привели два обстоятельства: известность в кулинарных кругах шеф-повара «Савоя» Вячеслава Брылова и тяга к экзотике. Дошло до нас, что на кухне ресторана сложена русская печь и что в ней мастер готовит блюда русской кухни.Да, русская кухня, похоже, становится экзотикой. В славном-то нашем городе, где предприятия общественного питания – от дорогих до очень дорогих – возникают едва ли не каждый день. Где и самого окраинного района не представишь себе без сушибара. Где из-за самых неожиданных углов вдруг появляются заведения таиландской или китайской пищи. Да все это густо приправлено храмами фастфуда – от демократичного «Макдоналдса» до массово-изысканного «Ростик’са». И пиццерии, пиццерии, пиццерии…
Ликбез не только для иностранцев
 В сущности, это и неплохо: больно долго уж были мы отрезаны от достижений мировой кулинарии. Справедливость, правда, требует заметить, что наши суши могли бы подаваться в Японии, как «рыбка по-русски», настолько они отличаются от японских; итальянец, попробовав пиццу, изумился бы: что за странное блюдо – русское, а с виду на пиццу смахивает? Да и вообще: что это за кухня такая – русская?
В сущности, это и неплохо: больно долго уж были мы отрезаны от достижений мировой кулинарии. Справедливость, правда, требует заметить, что наши суши могли бы подаваться в Японии, как «рыбка по-русски», настолько они отличаются от японских; итальянец, попробовав пиццу, изумился бы: что за странное блюдо – русское, а с виду на пиццу смахивает? Да и вообще: что это за кухня такая – русская?Простим иностранцам их темноту. За рубежами немало «русских ресторанов», в меню которых обязательно присутствуют борщ, шашлык, пельмени. Для очень богатых гостей – икра, когда с блинами, когда на тарелочке, с лучком и лимончиком. Кстати, примерно так себе представляют русские блюда и наши соотечественники. (Боюсь, что об икре – черной прежде всего – большинство из них теперь только наслышано.) А ведь борщ пришел в Россию относительно недавно с Украины (как и присядка в пляске), слово «пельмень» означает «хлебное ушко» на языке народа коми, а шашлык завоевал свое почетное место на столе примерно тогда, когда петербургская и московская публика стала ездить отдыхать в Крым.
И опять все это будет неточно. Если чтото укоренилось в национальной кулинарии, заняло прочное место в сознании и, естественно, приобрело новые специфические черты, несколько отдалившись от первоисточника («Та шо в их за борщ! Тю!»), значит, это стало своим. Но все-таки хочется знать: а какое же было свое, пока своим не стало заимствованное?
 ...Пройдя сквозь изукрашенные лепниной, картинами и зеркалами залы «Савоя», мы очутились на кухне, а в комнатке за нею увидели беленую русскую печку. Почти такую, как можно было увидеть в избе. «Почти» – потому что такого важного элемента, как лежанка, в ней не было – за ненадобностью. А так нормальная русская печь с огромной нишей духовки, с ухватами разной величины, с чугунками и горшками. И хотя она контрастировала с роскошью начала прошлого века в зале и никелированной электроплитой, лежащие рядом аккуратно наколотые дрова показывали, что это не элемент интерьера. И повар-мастер – могучий мужчина в белой двубортной куртке и высоченном крахмальном колпаке – выглядел рядом с ней совершенно по-свойски. Три чугунка стояли в печи, но об их содержимом мы узнали (увидели, вдохнули аромат, попробовали) значительно позже: готовка в русской печи требует времени.
...Пройдя сквозь изукрашенные лепниной, картинами и зеркалами залы «Савоя», мы очутились на кухне, а в комнатке за нею увидели беленую русскую печку. Почти такую, как можно было увидеть в избе. «Почти» – потому что такого важного элемента, как лежанка, в ней не было – за ненадобностью. А так нормальная русская печь с огромной нишей духовки, с ухватами разной величины, с чугунками и горшками. И хотя она контрастировала с роскошью начала прошлого века в зале и никелированной электроплитой, лежащие рядом аккуратно наколотые дрова показывали, что это не элемент интерьера. И повар-мастер – могучий мужчина в белой двубортной куртке и высоченном крахмальном колпаке – выглядел рядом с ней совершенно по-свойски. Три чугунка стояли в печи, но об их содержимом мы узнали (увидели, вдохнули аромат, попробовали) значительно позже: готовка в русской печи требует времени.Слово кулинарному композитору
Как человек становится поваром? Понятно, конечно, что не все стремятся стать космонавтами (и не дай нам бог жить в обществе, где все сплошь космонавты!), но в 60-е годы, когда Вячеслав Андреевич Брылов был пионером и школьником, примерные пионеры иначе своего будущего не видели.
– Как стал поваром? Родился и жил в Бирюлеве, это тогда фактически был подмосковный поселок. Годы были послевоенные, голодноватые. Свое хозяйство помогало, но, помню, чтобы купить корм для кур или жмых, приходилось чуть ли не в четыре часа ночи подниматься и ехать с мамой: давали по 20 килограммов на нос, так что и мой сопливый годился.
 Подрос, восемь классов окончил, стали решать, чем заняться. А старший брат уже работал поваренком в ресторане на Павелецком вокзале. Работа ему нравилась, а главное – мама так считала – при такой профессии голодным никогда не останешься: поколение родителей не только войну помнило, но и как до нее не очень сытно было. Короче, пристроили и меня туда. Первую половину дня подростки работали и больше всего ценного для себя усваивали от старых мастеров, которые в этом ресторане трудились с незапамятных времен. Вообще тогда в Желдорресторантресте многие рестораны были знамениты кухней. А вторую половину дня ездили в училище. Тоже вещь полезная, разная там «первичная обработка продуктов», а также идеологические предметы, где ж без них. Правда, я, когда уже стал поваром высшей квалификации и попал на курсы повышения, опять осваивал «первичную обработку» и все такое прочее – положено было курсы проходить время от времени.
Подрос, восемь классов окончил, стали решать, чем заняться. А старший брат уже работал поваренком в ресторане на Павелецком вокзале. Работа ему нравилась, а главное – мама так считала – при такой профессии голодным никогда не останешься: поколение родителей не только войну помнило, но и как до нее не очень сытно было. Короче, пристроили и меня туда. Первую половину дня подростки работали и больше всего ценного для себя усваивали от старых мастеров, которые в этом ресторане трудились с незапамятных времен. Вообще тогда в Желдорресторантресте многие рестораны были знамениты кухней. А вторую половину дня ездили в училище. Тоже вещь полезная, разная там «первичная обработка продуктов», а также идеологические предметы, где ж без них. Правда, я, когда уже стал поваром высшей квалификации и попал на курсы повышения, опять осваивал «первичную обработку» и все такое прочее – положено было курсы проходить время от времени.Положено… Тогда положено было соблюдать строжайшие нормы: масла столько-то, овощей столько-то, соли и то по норме. Фантазии не разгуляться никак, а я ремесло свое полюбил, и фантазии у меня хватало. Старики мастера даже за свой счет покупали и приносили разные специи, чтобы приготовить так, как считали нужным. Конечно, при социализме это единообразие играло и положительную роль – все эти дешевые столовые, да и рестораны не так уж дороги были. Вот только блюда в столовках были по большей части несъедобные, а в ресторанах – съедобные, но однообразные. А если дело свое любишь, обязательно фантазируешь. Говорят же – «кулинарный композитор»!
 Отслужил в армии – и там год поваром был. Начал работать в разных ресторанах. Честно скажу, имя себе заработал. А потом мне предложили поработать поваром советского посольства в Греции. По тем временам удача – лучше не бывает. Впрочем, детально с греческой кухней не познакомился, разве что ели иногда с женой в греческих ресторанчиках. А контактов с греками-коллегами – ни-ни. Времена такие были. Помню, раз побывал в гостях у повара братского чехословацкого посольства, поели от души и поговорили от души: больше на профессиональные темы. А на следующий день приглашает к себе соответствующий товарищ и спрашивает, мол, не соскучился ли я по Родине?
Отслужил в армии – и там год поваром был. Начал работать в разных ресторанах. Честно скажу, имя себе заработал. А потом мне предложили поработать поваром советского посольства в Греции. По тем временам удача – лучше не бывает. Впрочем, детально с греческой кухней не познакомился, разве что ели иногда с женой в греческих ресторанчиках. А контактов с греками-коллегами – ни-ни. Времена такие были. Помню, раз побывал в гостях у повара братского чехословацкого посольства, поели от души и поговорили от души: больше на профессиональные темы. А на следующий день приглашает к себе соответствующий товарищ и спрашивает, мол, не соскучился ли я по Родине?Греческая кухня мне понравилась изза разнообразных и свежих овощей, умелого сочетания мяса, брынзы, оливкового масла. Природа у них все это дает. И у нас можно все это готовить, но продукт будет не такой свежий и оливы у нас не растут.
Кстати, не так уж хорошо посольства обеспечивались. Скажем, селедку и черный хлеб выпрашивали на советских судах. Это для себя. На приемах, конечно, селедкой не потчевали. Из русских блюд, помнится, подавали блины с красной икрой.
 Вернулся, работал в хороших ресторанах, а потом пригласили в главное советское посольство поработать – в Вашингтон. Там у посла – Анатолий Федорович Добрынин тогда был – на приватных завтраках кто только не побывал, все, кого по телевизору в политических программах показывают. Посол был человек замечательный, но кухню любил западную: лобстеров, стейки. Стейки у американцев отличные. Все дело в свежайшем мясе, да и бычка очень продуманно кормят. Из замороженного мяса такой стейк не сделать. Хотя и не каждый гость поймет.
Вернулся, работал в хороших ресторанах, а потом пригласили в главное советское посольство поработать – в Вашингтон. Там у посла – Анатолий Федорович Добрынин тогда был – на приватных завтраках кто только не побывал, все, кого по телевизору в политических программах показывают. Посол был человек замечательный, но кухню любил западную: лобстеров, стейки. Стейки у американцев отличные. Все дело в свежайшем мясе, да и бычка очень продуманно кормят. Из замороженного мяса такой стейк не сделать. Хотя и не каждый гость поймет.Я много где после возвращения работал, в частных ресторанах начал. Придумывай сколько хочешь. Иностранные мастера стали приезжать, и от них поднабраться можно. К примеру, соусы. Мы знали только два: белый и красный. А их в мире – море разливанное, и каждый придает блюду свой вкус. Мастерства, короче, набрался: два раза – в 1996 и 1998 годах – стал победителем конкурса «Лучший шеф-повар ресторана при московской гостинице».
Но, наблюдая за публикой, ее вкусами и пристрастиями, я с грустью замечал, что пристрастия эти весьма однообразны. Скажем, провели выходные на даче – жарили шашлыки. Приехали в город, пошли в ресторан – опять шашлыки. Словно другой еды не бывает. Все больше меня интересовала история и технология традиционной русской кухни. Довольно много читал. Вот есть такая книга о русской кулинарии, еще с «ятями», Зеленко автор. Елена Молоховец мне не подходила: она для молодых хозяек, а для рестораторов, для профессионалов Зеленко гораздо полезнее. Так вот, оказалось, что предки редко жарили, зато часто запекали и томили. И все это в русской печи.
Танцуем от печки
 Среди гениальных изобретений наших предков должно назвать знаменитую русскую печь: и жилье обогревает, и спать на ней приятно и полезно для здоровья, и тепло так долго держит, что в ней можно, уйдя на работу, оставить горшки и чугунки с едой, чтобы они ждали вас до вечера готовыми и горячими. Такая печь могла родиться только в стране с суровым климатом. Вообще мы часто забываем, чем стоит гордиться, а вместо этого кричим: «Россия – родина слонов!» Правда, если вспомнить, в какой стране чаще всего находят останки мамонтов, предков слонов, задумаешься: а может, действительно, родина слонов?
Среди гениальных изобретений наших предков должно назвать знаменитую русскую печь: и жилье обогревает, и спать на ней приятно и полезно для здоровья, и тепло так долго держит, что в ней можно, уйдя на работу, оставить горшки и чугунки с едой, чтобы они ждали вас до вечера готовыми и горячими. Такая печь могла родиться только в стране с суровым климатом. Вообще мы часто забываем, чем стоит гордиться, а вместо этого кричим: «Россия – родина слонов!» Правда, если вспомнить, в какой стране чаще всего находят останки мамонтов, предков слонов, задумаешься: а может, действительно, родина слонов?– И так мне захотелось обзавестись русской печью, – продолжает Вячеслав Андреевич. – Благо наш «Савой» проходил тогда через капитальный ремонт. Хозяин заведения пошел навстречу. Одна беда: а где печника взять? Печника нашли, но очередь к нему на год вперед расписана. Многие владельцы загородных домов вдруг обратились к отечественным истокам… Наконец, сложил он нам печку, приспособленную к нашему производству. Но печку пришлось осваивать. Тут мне во многом помогла теща, не забывшая еще родную избу. Ухват, кстати, только на вид прост, а поди-ка научись с ним по-человечески обращаться!
В нашем меню есть щи. В чугунке, выдержанные в печи. А горло чугунка замазываем тестом. Щи варятся, и лепешка к щам печется.
Есть молочный поросенок с гречневой кашей. Есть пшенная каша с тыквой. Много видов рыбы. И стерлядка найдется, и ей в печи места хватит.
Так что печь еще нужно осваивать. При этом не держаться только за старинные рецепты, а и свое добавлять: в печи все блюда действительно станут русскими. В общем, как говорится, танцевать надо от печки…
Но тут подошел официант и доложил, что блюда дошли. И на стол поставили щи с лепешкой, и были эти щи такие наваристые и духовитые, что ясно становилось: настоящих щей мы до того не пробовали. И была стерлядка с нежным соусом. А на десерт подали кашу пшенную с тыквой – и еще много с чем, – и сладкая каша благоухала. И зерна не царапали глотку. И я понял, что вкушал человек, придумавший поговорку: «Хороша кашка, да мала чашка», хоть чашка была и не малой…
Лев МИНЦ